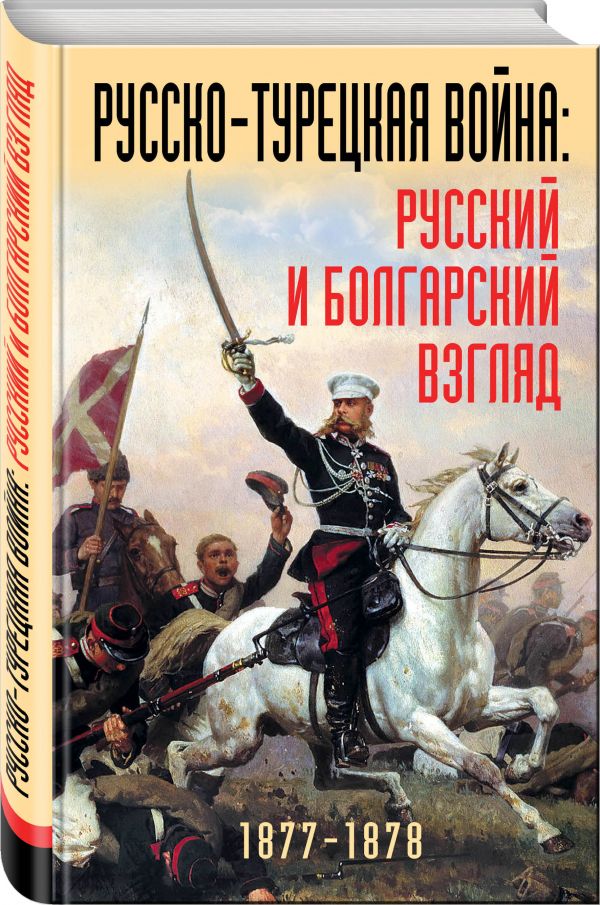 |
| Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: русский и болгарский взгляд / Под ред. Р. Михневой, Р. Гагкуева, сост. С.С. Юдин, К.А. Пахалюк, Н.С. Гусев и др. М.: Яуза, 2017. Интернет магазин book24.ru |
В свет вышел сборник воспоминаний, приуроченный к 140-летию начала Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. за освобождение болгарского народа, который результатом работы группы российских и болгарских историков. Идея данного сборника родилась в Российском военно-историческом обществе (РВИО), когда летом 2016 г. коллеги из Софийского университета им. Св. Климента Охридского выступили с инициативой организовать совместные мероприятия к 140-летию со дня начала Русской-турецкой войны 1877—1878 гг., которая в Болгарии носит название «Освободительной», а в дореволюционной России обычно обозначалась как война «за освобождение болгарского народа». Была организована российско-болгарская исследовательская группа, состоящая из представителей Софийского университета им. Св. Климента Охридского, Института славяноведения РАН, Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России, Национального движения «Болгарское наследие», а также ряда военных историков. Координатором выступил историк К.А. Пахалюк.
Основная цель заключалась в том, чтобы донести голоса участников той войны, русских и прежде всего болгар (ведь их воспоминания впервые публикуются на русском языке и позволяют донести до российского читателя болгарское видение тех событий). Составители стремились представить взгляд на те события не столько из высоких штабов, сколько «снизу», донести ту «правду», которая позднее будет названа «окопной», показать, чем являлась та война для русских и болгарских участников и населения Болгарии. В определенной степени речь идет о взгляде по обе стороны «фронта», правда, не врагов, а тех, для кого противостояние османам стало общим делом. Как отметил во вступительной статье академик Болгарской академии наук К. Косев: «Этот сборник ‒ плод сотрудничества между русскими и болгарскими историками. Он важен не только потому, что публикуется в канун высадки русских солдат в июне 1877 г. на болгарский берег Дуная, но еще и потому, что дает сегодняшнему поколению русских представление о том, какими людьми были болгары в XIX в. и какой была их вера в силу «Деда Ивана»».
Впрочем, общность целей вовсе не определяет единство позиций: для России это было прежде всего очередная героическая война, для болгар – кульминационный момент национального Возрождения. Некоторые моменты в воспоминаниях могут показаться неожиданными. Болгары действительно ждали русских как освободителей от многовекового османского ига, однако процесс национального освобождения и формирования национальной элиты начался задолго до 1877 г., а потому русская армия пришла вовсе не на пустое место. Равным образом как отношение к ней находилось под влиянием опасений, что, как и в 1828—1829 гг., она опять уйдет, оставив болгарский народ „один на один” со своими угнетателями. Именно для прояснения исторического контекста событий, который слабо известен широкому читателю, была написана подробная вводная статья.
Вниманию читателей предлагает отрывок из воспоминаний болгарского просветителя Димитра Тачева Душанова (1837—1904), который был также активным участником национально-освободительного движения в Болгарии общество «Кормило». Перевод с болгарского А. С. Добычиной.
I. После восстания 1876 г.
Всеобщий страх, который повсеместно распространился после восстания, а, в сущности, свирепство подавивших его, башибузуков и регулярных войск, ужасная резня в Батаке, Перуштице, Батошево и в иных местах, заставляли негодовать и самых бесчувственных; зверство и скотство, с каким они относились к беззащитным, угнанным в плен вдовам, девицам и молодым инокиням, заставляли даже самые нежные сердца биться в груди, горя и дыша отмщением. Они убивали и уничтожали все подряд, и виновных, и невиновных, каждого, кто представал перед их взорами; пожары, мародерства и насилие были для них ничего не стоящим, обычным делом; ведь они имели дело с имуществом и семьями нечестивых гяуров[1].
Плевненский каймакам Дели Неджиб и тамошний хаджи Челеби, на которых была возложена обязанность усмирить Батошевское восстание, зверски сжигали, немилосердно убивали, беспощадно грабили и обнажали, и сладострастно насыщали свои скотские страсти; так что и дитя в утробе матери возроптало бы от этих зверей.
Будучи в то время учителем в Плевне, я не смел даже показаться в той части города, в которой бушевали эти вандалы; меня бросало в дрожь, каждый раз когда насущная надобность заставляла меня выходить за чем-то на рынок и нужно было идти мимо постоялого двора, который держал этот зверь. Для него не было никого, кто бы был так верен падишаху и его стране, кроме его свояков Цангиди и Тодораки — Клеантовых зятей[2], и двух «огречевшихся» болгар — одного из Копривштицы, другого — из Сопота, где те промышляли оптовой торговлей тканями.
[1] Гяур — презрительное название иноверца у мусульман.
[2] Очевидный намек на персонажа пьесы Ж.-Б. Мольера «Тартюф».
Благодаря этому, они, или обладая врожденной совестью, или преследуя свои интересы, спасли многих от виселицы. Достаточно было им лишь заступиться за кого-то перед этим зверем, всегда изображавщим из себя «душу нараспашку», миролюбивого человека, который лишь печется о своем деле, и он легко мог спастись, отделавшись лишь неприязненным взглядом в свою сторону или отпущенной вслед варварской руганью.
После разорения Батошево они, и в особенности Дели Неджиб, притащили с собой воз награбленного и мешки серебра, церковную утварь и разные деревенские женские украшения. А у Челеби несколько месяцев жили две молодые инокини и несколько плененных девиц. Их искали повсюду и нигде не нашли — живы ли они, убиты ли они, никто не знает, по крайней мере, я и сейчас не знаю, удалось ли им вновь увидеть белый свет.
Наконец, это неудачное восстание было усмирено, и власть имущие, чтобы загладить свои зверства, кинулись собирать у населения обращения, что оно довольно своим пребыванием под султанской защитой, и ему не на что жаловаться. Такие сборщики явились за подписями с подобным обращением и в Плевну — то были известный русенский муфтий и Петр Златев, который, к всеобщему позору, заставил и учителей, и граждан идти целовать руку своего деда муфтия. А когда мы вышли оттуда, покойный ныне Маринчо Петров, тогдашний председатель школьного настоятельства, дал мне копию того обращения, которое он должен был вернуть им с подписями жителей города, для того, чтобы я его переписал, но я не хотел брать и попросил дать его кому-то из учеников или более молодых учителей.
Утром меня вызвали в городскую управу, где был и Петр Златев, тот рассказал мне следующую притчу: «Некий господин оказался в неком городе, где женился на некой госпоже с условием открыть лавку, но никогда не продавать ничего из товара за бóльшую цену, чем по той, по какой он его купил, и каким бы ни был результат его торговли, он не должен любопытствовать о том, почему надо делать именно так. Он уже женился, открыл лавку и за что покупал, за то и продавал. Жил же привольно и счастливо, и только лучше от того, что капитал никогда не уменьшался, если и покупал за 5, то за 5 и продавал, и все его расходы сводились лишь к этому. Прошло время, и он не заметил, как в один день в разрез условиям, которые заключил со своей женой, сказал: «Жена, неудивительно ли на самом деле, как мы живем так привольно и счастливо, столько лет прошло, как я за что покупаю, за то и продаю, а мой капитал все тот же и лавка моя не опустела. Не успел он и договорить, как оказался уже не у жены своей, а откуда пришел, и далеко от чудесного своего занятия и не оскудевающей лавки».
Я хорошо и без труда понял, почему он рассказал мне эту притчу, и не спрашивал об ее окончании. Оно само заявило о себе, когда я собирался уходить, господин Маринчо Петров извлек из своего кармана обращение и вручил мне его. Перед тем как его взять, перед моими глазами предстали габровские учителя в тырновской тюрьме, так что я хотя бы легко отделался и не пострадал, как они, благодаря Нури-бею. Я молча взял обращение, переписал его и возвратил обратно. Но при этом принял решение не жить более в Плевне, где, согласно новым правилам, мне необходимо было учительствовать еще два года. Иначе этот поступок городского председателя я объяснить не мог. Обстоятельства вынуждают их, подумал я про себя, впредь ограничить деятельность школ, ведь в этом году они, кажется, были как никогда неаккуратны с жалованием. Это подтвердилось еще более явно, когда после моего ухода мне не доплатили, и лишь после взятия Плевны русскими, мне заплатили то, что были должны, в Тырново, куда я бежал после нашествия Сулейман-паши.
[опущен отрывок о переезде автора в г. Казанлык, где он снова стал учителем и на следующий 1877 год встретил русские войска отряда И.В. Гурко]
В какой-то из дней, не помню точно, утром меня посетил в доме бай Петко Панагюрец, приехавший из Плевны, давно служащий при тамошних потомках Михал-бея, братьях мутевалиях[3], Нури-бее и Махмуд-бее. Бай Петко носил турецкую одежду и по внешности и разговору был тем же турком. Его первым словом, когда мы увиделись, было: «Передаю тебе большой привет от бая Атанаса Костова», тамошнего торговца, ныне уже почившего. Я поблагодарил его, поприветствовал, пригласил присесть и спросил:
— Что привело тебя в эти края, бай Петко? Что нового в моей Плевне? Как там мои друзья? У меня остались чудесные воспоминания о городе.
— Они хорошо, и все прекрасно, да я именно поэтому и приехал, чтобы повидаться с тобой и сказать тебе это. Бай Атанас специально поручил мне это; русские уже около Никополя.
Я почувствовал, как от этой приятной новости меня словно кольнуло что-то, и вновь спросил его:
— А ты их видел?
— А как же! Эти негодники расположились на поле, здесь белые, там черные, любо-дорого поглядеть на них. Как только эта новость разнеслась по Плевне, Махмуд-бей, чтобы убедиться, правда ли это, послал меня, дабы я сам пошел на них посмотреть, тут я и увидел их, негодников, и скорее вернулся назад, чтобы сообщить ему. Его точно громом поразило от услышанного, и он сразу же телеграфировал в Константинополь брату Нури-бею. По новой конституции, он депутат и заседает в палате. А Нури-бей ответил, что приедет, и Махмуд-бей тотчас послал меня сюда же с тремя турками, чтобы встретить и препроводить брата в Плевну. Он прибывает к вечеру, и еще в эту ночь мы должны перейти Балканские горы, нам никак нельзя медлить; ведем ему коня и запасную лошадь.
[3] Мутевалия — лицо, заведующее в Османской империи недвижимым имуществом, подаренным религиозному учреждению с благотворительной целью.
То, как я обрадовался, слушая бая Петко, рассказывавшего мне эту приятную новость, невозможно передать. Радость моя была такой, что мне не сиделось дома, что-то подталкивало меня на улицу, и я думал лишь о том, чтобы поскорее проводить бая Петко и пойти поделиться со своими друзьями этой необычайно радостной новостью. Наконец, после неоднократного угощения, бай Петко поднялся ехать, да и я вышел с ним, проводил его до конца улицы и там мы расстались; он отправился на постоялый двор, который находился в нескольких шагах дальше, я же пересек улицу и направился в дом дяди Константина, где обычно мы собирались по утрам. Там уже были все мои друзья, и, находясь в очаровании от своей новости, с каким нетерпением, с каким восхищением и радостью я сообщил им ее, таким мне показалось и их невообразимо огромная, внезапная радость. Я пленил их, и еще больше восхищался, и мечтал, и предсказывал наше близкое царствование. Изумленные, они ловили каждое мое слово, и каждый говорил что-то, что было близко произнесенному мной. Мы все радовались, как дети, и после свежих еще огорчений и печалей, которыми наполнили нас зверства, повсюду совершавшиеся в нашем многострадальном отечестве взбесившимися турками, мы уже мечтали для себя о прекрасном будущем и строили воздушные замки.
Поздно вечером, около 1 часа по турецкому времени, Нури-бей прибыл и сошел на постоялом дворе Костаки. Мне очень хотелось его увидеть, хорошо было бы услышать что-то и из Константинополя, и я искал причину, по которой мне бы представилась возможность его поприветствовать, и вскоре я ее нашел. Плевненская администрация не доплатила мне учительскую зарплату, когда я уезжал, а тут я как бы воспользовался его приездом, чтобы просить содействовать в выплате того, что были должны. Так, я явился перед ним незваным гостем, засвидетельствовал свое почтение, и он хорошо меня принял, но был очень задумчив и озабочен. Увидев его таким, хоть мне и хотелось подольше задержаться при нем, я не посмел этого сделать, лишь передал ему свою просьбу и собрался уходить.
— Хорошо, я постараюсь, насколько смогу, будь спокоен, — ответил мне он, и мы простились. Он извинился, что не может более меня задерживать, поскольку спешит поужинать и поскорей тронуться в путь, мол, неотложное дело заставляет его спешить, и завтра вечером он должен быть в Плевне. Мне уже было известно это его неотложное дело, но я сделал вид, что ничего не знаю, попрощался, пожелал приятного пути и вышел.
Ночью я почти не спал, расположившиеся у Никополя пресловутые черные и белые русские солдаты бая Петко все мелькали у меня перед глазами, все крутились в голове, и с ними я почти встретил рассвет. Назавтра утром наши прения у дяди по вопросу приняли еще более серьезный оборот, и особенно когда со стороны близких к конакулиц осторожно пошла молва, что русские будто бы уже и в Тырново, а вскоре открылась и вся правда, поскольку некоторые из забалканской турецкой верхушки начали покидать свои места и бежали в Казанлык. 1 июля я встретился с Садуллой-пашой из Севлиево, который со всеми своими домочадцами, пожитками и в сопровождении большого числа крепких молодцов, бежал из Севлиево и остановился в Казанлыке, где расквартировались два батальона низама[4], отделенные от армии, которая укрепилась на вершинах горы Шипки с артиллерийской батареей. Все в тот же день, 1 июля со стороны Стара-Загоры приехал и Блонд, английский консул в Адрианополе, и остановился в доме господина Папазоглу, с которым они были знакомы ранее. У него имелось два сундука багажа, которые он не успел взять, когда бежал, и мне кажется, что русские потом обнаружили их в доме Папазоглу, где он их оставил.
[4] Низам — регулярная армия Османской империи.
Такими и тому подобными советами и наказами он проводил нас; утром же, 2 июля, несколько турок из Махалы, села напротив Айнского перевала, отправились в конак и сообщили каймакаму, что русские напали на их село, сожгли его и изрубили бóльшую часть жителей. Среди турок по всему городу разгорелась паника. В сущности, вот как все было: 40—50 казаков из тех, что с длинными пиками, спустились как разведчики через Айнский перевал в Махалу и там остановились около мечети, созвали турок и объявили, что сюда идут императорские войска и скоро они окажутся в селе. Они вручили им и царскую прокламацию, зачитали ее и сказали, что тем, кто будет вести себя мирно, проявит покорность, и не будет оказывать сопротивления оружием, сохранят и имущество, и жизнь, так что ни волоска с их головы не падет. Все слушали эти добрые наставления и клятвенно обещали, что сохранят мир и будут покорными. Но как только казаки сели на коней и повернули назад, из засады прогремело несколько ружейных выстрелов, и 5—6 человек покатились с лошадей вниз. Тогда разъяренные казаки вернулись, подожгли село со всех сторон и изрубили тех, кого застали. Прибывшие вскоре войска обнаружили, что село горит и турки убиты, и двинулись в Казанлык. Армия, расквартированная там, вышла против них. Она застала их у Яйканлия и потерпела такое сокрушительное поражение, что тех, кому удалось выжить, раненых привезли на повозке с лошадьми вечером в Казанлык. Весь город, и турки, и болгары, пришел в движение, увидев их, и никто не знал, ни что произошло, ни куда идти, все были сильно обеспокоены, и в особенности турки были чрезвычайно удручены и испуганы.
Вечером мы вновь по обыкновению собрались небольшой компанией около фонтана в саду господина Папазоглу, и пока говорили о том, что видели и слышали, возвратился откуда-то и Блонд. Мы все встали и уступили ему почетное место, надеясь, что он расскажет нам что-то более обнадеживающее. Едва присев, он стал очень разгоряченно говорить, что русские были в Яйканлии, где и Стоян-яйканлиец якобы организовал чету, облачившись в мятежнические одежды, и объединился с ними, чтобы перерезать всех тамошних турок; но он издал распоряжение, чтобы армия спустилась с Шипки с пушками, и надеется до этого отразить их нападение, а сам уже телеграфировал об этом в Константинополь.
[…]
Утром, 4 июля, русские, которые продолжали свой путь к Казанлыку[5], были уже в Мыглиже. Вся оставшаяся в Казанлыке армия пошла против них, а Блонд открыл склад старого ржавого оружия и собрал башибузуков.
— Дин ислам олан, чиксын душман каршусында (Кто правоверный, пусть выступит против неприятеля), — кричал он, затем созвал нескольких и вверил их каймакаму, чтоб тот повел их. Они отправились было, но затем попрятались в виноградниках, а Блонд не мог прийти в себя от злости, что потребованная им армия с гор еще не пришла.
Она прибыла едва к вечеру, волоча и четыре стальные пушки «Круппа», и остановилась перед конаком, желая, чтоб ей показали, где она будет ночевать. Но беи не нашли согласия друг с другом, и прежде всего старый Мехмед-бей, говоря командиру:
— Эта каша заварилась между двумя сильными царями. У них есть свои войска, пусть расхлебывают ее там, на поле, а не здесь, разрушив город и напугав население. Мы не оставим вас ночевать в городе, поэтому идите в поле.
С этими словами он отправил их вон из города. Я находился близко к нему и все слышал. Перед тем как они тронулись, бинбаши[6], старый человек, обратился к одному юзбаши[7] из местных:
— Как обстоят дела? — а тот ему ответил:
— Биз алдык хызымыз (Мы взяли в свои руки то, к чему стремились). Сизди бакыныз (Подумайте и вы).
[5] Речь идет об отряде генерала И. В. Гурко.
[6] Бинбаши — офицер Османской армии, командующий отрядом в 1000 человек.
[7] Юзбаши — полицейский начальник, или капитан Османской армии.
IV. Блонд бежит. Встреча русских
С самого утра 5 июля стало слышно, как гремят пушечные залпы. Оба войска встретились вблизи Мыглижа и начался бой. Я вышел из дома и первым, кого я повстречал, был некий милязим[8], который выходил из школы, где располагался армейский склад оружия. Мы поприветствовали друг друга, и он сказал мне:
— Вчера мы проиграли, но сегодня все хорошо; думаю, еще к обеду мы отразим нападение и разобьем неприятеля.
Меня словно громом поразили его слова, но я сделал вид, что доволен этой приятной новостью, и сказал:
— Дай Бог! Господь велик, и с Его помощью мы отбросим врага.
[8] Милязим — офицер Османской армии, соответствующий званию подпоручика в русской армии.
С этими и тому подобными речами мы дошли до конца улицы, где и расстались. Он поехал к конаку, а я постучал в двери, чтобы попасть к дяде, но там было закрыто. Дядя заметил меня из окна и мне открыли уже без стука. Я поднялся наверх и с горечью рассказал, что сообщил мне милязим. Он пал духом, я же напротив, не зная почему, внезапно настолько ободрился, что почти в беспамятстве прокричал:
— Нет! До 2–3 часов мы уже получим свое царство; ждите его, не теряйте присутствия духа, — и вышел.
На улице было тихо, и больше не слышались никакие залпы. Я направился к площади, надеясь встретить какого-нибудь приятеля; и там было тихо, и лавки почти все позакрывались. Я вернулся и поехал к конаку; встретив по пути покойного ныне Ив. Касева, который сообщил мне, что от бинбаши пришло письмецо, согласно которому, тот требовал боеприпасы, поскольку они у него закончились. Это вновь меня очень обрадовало, и я подумал про себя, что очень скоро у нас будут гости. Мы с Касевым разошлись в разные стороны; он отправился к ним, а я прислушался, и до меня докатился треск, будто из-под земли, подобный тому, когда в жаровне потрескивает кукуруза. Этот треск постепенно становился все более отчетливым, и я, зайдя к семье Папазоглу, поднялся на веранду, над самой черепицей, надеясь увидеть что-либо оттуда. Ничего не было видно, кроме дыма, и то далеко, а треск слышался все отчетливее. Я спустился оттуда и направился к церкви, поднялся на колокольню, но и оттуда не увидел ничего, кроме дыма к востоку и к югу от города; а проклятый треск звучал чаще и еще сильнее. Пока я осматривался, моя ныне покойная жена изо всех сил кричала мне из дома, откуда меня было видно, чтобы я спустился. Я еще смотрел сверху по сторонам, когда услышал ее крик со ступеней колокольни, и был вынужден спуститься. Она уже взобралась на первую ступень и, растрепанная, оплакивала меня, крича в голос. Я заставил ее спуститься вниз и, вместо того, чтобы отвести ее домой, повел к попу Стефану, но у него никого не было дома; сами они ушли к находившемуся чуть выше по улице дому старика Христо Папазоглу, так что я проводил ее туда и оставил там, у них, и вновь вышел из дома; мне не сиделось взаперти на одном месте. Я пошел в верхнюю часть города — никого нет, тишина на улице. Тогда я завернул к дому Папазоглу, и вдруг на лошадях без седла навстречу мне выехали Блонд и его денщик-арнаут, мчащиеся со всех ног. От радости я не мог стерпеть и прокричал ему:
— Уурлар олсун, аа! (У нас теперь есть царство).
Не успел я прийти в себя от этого зрелища, как повернувшись, увидел у дома Серафимовых бричку; старая Неда грузила на нее флаконы с розовым маслом, и Серафимов с Кехаевым[9] готовы отправиться в путь. Напрасно я просил их остаться и не бежать. «Еще немного, и у нас будет царство, — говорил я им, — а вы бежите», — но они не слушали меня и отправились вслед за Блондом в Пловдив. На улице стояла та же тишина, и я свернул по улице, чтобы зайти к своей жене и посмотреть, что она делает, страшно ли ей по-прежнему. Пока я возвращался туда, напротив, со стороны конака, меня громко окликнул старый муфтий:
— Дур, Душанов эфенди! Аяксыс калдым, сизи арая-арая; достумус баалыкта гелмиш, не тюрлю каршилаялым? (Постойте, господин Душанов! Я сбился с ног, разыскивая вас; наш друг в винограднике, как мы будем его встречать?)
[9] Речь идет, по-видимому, о Д. Г. Кехайове, первом мэре Казанлыка (1878—1879).
Я повернул в сторону, позвал попа Стефана и старика Христо Папазоглу, и мы вместе пошли в конак. Я сказал муфтию распорядиться, чтобы принесли кусок рогожи, мы вырезали из него три больших, белых знамени. С одним из них часть людей двинулась к башне, с другим — к востоку по шоссе, а мы — я, поп Стефан, Христо Папазоглу, муфтий и Абдула-бей, который по дороге постоянно бросался меня обнимать, — на юг через огороды, но треск все продолжался. Мы уже вошли в огороды и были там, и грохот слышался уже очень близко.
— Это наши ребята, — сказал муфтий и закричал: «Атмайныс ба, атмайныс!» (Эй, не стреляйте, не стреляйте!)
Но как тут его услышать, стреляют и стреляют, в тот момент, когда пуля просвистела прямо у моего уха, это настолько меня обескуражило, что я совсем пал духом. Преисполненный страха и малодушия, я ретировался, позвав с собой и Папазоглу, но тот не захотел, и на четвереньках пополз назад через недавно политые грязные огороды. Когда я выполз на дорогу в своем летнем хлопковом костюме, то посмотрел на себя, и на руки, и на ноги — я был грязный, словно буйвол. Потерев два–три раза грязь руками, я поднял глаза и увидел впереди 5—6 всадников. Я немедленно снял феску и поприветствовал их:
— С приездом, братцы, здравствуйте!
— Будьте здоровы! А далеко ли город и телеграфная станция?
— Нет, очень близко, вы уже в городе, немного правее, и вы сразу ее увидите.
— А есть ли войска в городе?
— Только раненые; а ваши где, скоро ли приедут?
— Вот идут позади[10], — они указали мне на армию и пришпорили коней.
[10] Автор приводит свой разговор с русскими собеседниками по памяти, допуская множество грамматических ошибок и смешивая с болгарскими словами. Приводим диалог в оригинале (Прим. пер.):
«— С приездом, братцы, здравствуйте!
— Будьте здоровой! А далеко ли город и телеграфная станция?
— Нет, очен близу, вий уже в городе, не множко направо и сейчас увидите.
— А есть ли войска в городе?
— Только раненых; а ваши где, скоро ли приедут?
— Вот идут сзаде».
Я обернулся на юг и увидел, как все поле далеко вдаль почернело от войск. Это была кавалерия, двигавшаяся от Тунджи, поэтому я быстрее срезал путь, чтобы выйти на главную дорогу, и не успел я этого сделать, как слышу, чей-то голос произносит:
— Душанов, да ты…. в феске.
Я мгновенно снял феску и огляделся. Вижу — отряд из 20 всадников уже около меня. Среди них я узнал Петко Горбанова, который, видимо, и окликнул меня; а во главе — покойный ныне князь Церетелев, одетый в черкесский бушлат; тут же и каймакам, уехавший с башибузуками. Князь Церетелев узнал меня, мы поприветствовали друг друга, и он спросил меня:
— Есть ли в городе войска и какая-то опасность?
— Никакой, только раненые да солдаты, приставленные охранять склады.
— А в округе, нет ли войск?
— Около 7—8 тысяч в горах, над Шипкой. А кто командует конницей, которая идет сюда?
— Их царские высочества Лейхтенбергские князья, оба брата, Николай[11] и Евгений[12]. Впереди идет десяток человек, а позади на расстоянии 5—6 шагов — двое, вот это они — справа Николай, а слева — Евгений. После них уже армия. До свидания! — и он скрылся из виду.
Прошло еще немного времени — и армия приблизилась ко мне; обнажив голову, предстал я перед его царским высочеством князем Николаем и приветствовал его словами:
— Благословен грядый во имя Господне, — пели некогда незлобивые дети, увидев в Иерусалиме Спасителя на жребяти осли, — благословен грядый во имя Господне, — поет и многострадальный болгарский народ, увидев своих освободителей[13].
[11] Речь идет о Н. М. Романовском, герцоге Лейхтенбергском.
[12] Романовский Евгений Максимилианович, герцог Лейхтенбергский (1847—1901) — генерал от инфантерии, генерал-адъютант. В Русско-турецкую войну 1877—1878 гг.; в 1877 г. находился в распоряжении главнокомандующего Дунайской армией, затем в составе войск под командованием И. В. Гурко; за отличие был произведен в генерал-майоры.
[13] В оригинале: «Благословен грядний во имя Господне, пели некогда незлобливые дети, видев в Иерусалиме Спасителя на жребяти осли, — благословен гряды во имя Господне поеть и многострадальный болгарскый народ, видев своих освободителей» (Прим. пер.).
Но, взволнованный и растревоженный, я растерялся и не смог сдержать слез, да и он прослезился, и, видя, что более продолжать мою речь не могу, я произнес:
— Пожалуйте, брат, поцеловать руку освободителя[14].
Он протянул мне свою руку, я поцеловал ее, а он погладил меня по голове и сказал:
— Вот, молодец болгарин, а что, много ли турок в городе?
— Нет, только раненые.
— Пойдем![15] — и они поехали очень медленно, а я пошел рядом с его конем; он расспрашивал меня о том о сем, обо всем, что попадалось ему на глаза. Отовсюду, где мы проезжали, народ — мужчины, женщины, девушки и дети, веселые и смеющиеся — столпились у ворот, чтобы встретить въезжающих; наконец, мы очутились и на площади. Там они остановились и тут же прогремел гимн «Боже царя храни», оголодавшие же воины потянулись от своих лошадей к теплому еще хлебу, который мы нашли заготовленным в повозке, по-видимому, как дневной паек, который должны были отвезти искалеченным и раненым турецким бойцам.
[14] В оригинале: «Пожалуйте, брат, разцелувать освободителную руку»(Прим. пер.).
[15] В оригинале:
«— Вот, молодец болгарин, а что, много ли турок в городе?
— Нет, только раненых.
— Пойдем!» (Прим. пер.).
Гимн еще звучал, когда некий человек приблизился ко мне и сказал:
— Турки, возвращаясь назад, убили около мечети кого-то из горожан.
Он еще не докончил фразы, как князь Николай полюбопытствовал, что говорит мне этот человек. Я начал ему рассказывать, и не успел я еще договорить, как сотня казаков с пиками, получив приказ, разделившись, устремилась к указанной мечети — одни с одной стороны, другие — с другой, будто зная улицы города, и сколько турок ни встретили, пронзали их, и все они катились вниз. Конница же, под командованием их царских высочеств тронулась под музыку церемониальным маршем по городу, и отовсюду с балконов и из окон столпившиеся там женщины и девушки осыпали их разными самыми красивыми цветами.
Я думал про себя, что на этом свершилась встреча наших милых и дорогих гостей-освободителей, и отправился было домой, чтоб переодеться и отдохнуть, так как очень сильно устал. Но уходя, я углядел на балконе дома Папазоглу среди женщин и свою супругу-покойницу, и завернул к ним. Старая Неда, улыбающаяся и смеющаяся, как и все мы, встретила меня еще на пороге. Я поприветствовал ее и дорогих гостей и, чтобы взбодриться, попросил распорядиться насчет кофе, так как я очень устал. Пока я ждал, когда мне принесут этот кофе, и поздравлял собравшихся там людей, веселых дам и барышень, и наших храбрых освободителей с новым положением, меня подозвали, сообщив, что некий господин желал бы поговорить со мной наедине. Я вышел и увидел господина Кабакчиева, он вскрикнул, увидев меня, и сказал:
— Как же я измучался, господин Душанов, пока искал тебя. Уже более часа прошло, как на окраине города, в орешнике, остановился генерал Гурко со всем своим штабом и пехотой, ожидая, когда вы его встретите.
— А, так мы же их уже встретили.
— Вы встретили кавалерию, которая шла впереди, а не него и стрелков, которые прибыли только что.
Я сразу же выбежал, забыв и про кофе, и про отдых, и про смену костюма, про все, и распорядился, чтоб послали за священниками. Случайно встретив попа Ивана Чолакова, я попросил его поскорее созвать и других священников, чтобы они поспешили облачиться в церкви и, когда выйдут, нашли меня в конце улицы, где я остался их ждать. Между этими делами я завернул и к попу Стефану, попросив и его поскорее приготовиться к выходу. Спустя немного времени мы тронулись уже целой процессией: священники, народ, ученики и ученицы; они сами созвали друг друга и собрались. Священники в светлом, церковном одеянии несли в руках икону, евангелие и крест; но не взяли хлеб и соль, так что мы остановились у старика Тени Дерменджиева и взяли в его доме поднос с целым хлебом и мисочкой соли, и отправились. Не успели мы подойти к конаку, как увидели, что там уже столпился народ и среди них — гневно кричал с ногайкой в руке князь Церетелев. Он заметил меня и устремился ко мне со словами:
— Каковы ваши болгары, не знаю; спеша захватить правительственные и почтово-телеграфные учреждения, надеясь воспользоваться какими-нибудь документами, обнаруживаем там их, все рвут и уничтожают, и слов никаких не понимают.
— Бейте, — сказал я ему, и мы отъехали.
Еще дальше, у нижних ворот конака, мы встретили толпу и нескольких солдат среди них, ведущих связанного и рыдающего Калюнджию, одного из виднейших турецких торговцев, почти обмершего от страха. Увидев нас, он еще больше разрыдался и умолял нас освободить его.
— Куда вы его ведете? — спросил я солдат.
— Народ желает, чтобы мы его убили.
— Почему? Что он натворил?
— Мы не знаем, нам вручили его как плохого человека.
— Нет, братцы, все наоборот, если он и турок, то один из лучших людей. От имени честного креста, перед которым мы обнажили голову, прошу вас оставить его свободным, передать его нам.
Богобоязненные и благочестивые солдаты перекрестились, развязали его и отдали нам. Мы приняли его в свои ряды и продолжили свой путь, чтобы встретить прибывших. Там, за мостом, под орешниками мы заметили генерала Гурко и весь штаб верхом на конях в ожидании. Мы приблизились к нему, и поп Иван поднес блюдо с хлебом и солью, а поп Стефан осенил его крестом и поднес для целования. Тогда я поприветствовал его от имени города как желанного гостя. Я начал свою речь чрезвычайно знаменательными словами Симеона-богоприимца: «Ныне отпущаеши раба твоего, Владыко»[15] и после соответствующего обстоятельствам приветствия представил ему, исходя из их собственного желания, и беев, которые, обнажив головы, обритые, предстали перед нами.
— Скажите им, что я приказываю, чтобы они собрали повсеместно свое оружие и принесли его в конак, и пусть ведут себя мирно; иначе я разверну пушки к городу и разрушу его целиком.
Я передал им дословно его приказ; они поклонились и пообещали в точности его исполнить. После этого мы отправились к городу, и так как не было какой-то особой песни, заготовленной по этому случаю, я распорядился, чтобы ученики и ученицы спели перед шествием песню на стихи старика Славейкова, написанные по случаю решения Церковного вопроса:
День торжествен,
Праздник всенароден,
Торжествуй, болгарский мой народ,
Ты теперь совсем уже (вместо «церковно уж») свободен,
Ты свободен жить, как царь живет[16].
[1] В оригинале: «Нине отпущается раба твоего Владико» (Прим. пер.).
[2] Буквально: «День торжественный, праздник всенародный, торжествуй, болгарский народ, ты теперь совсем (изменено, вместо “церковно”) свободен, свободен жить царской жизнью» (Прим. пер.).
Димитр Душанов
Перевод с болгарского А. С. Добычиной.
Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: русский и болгарский взгляд /
Под ред. Р. Михневой, Р. Гагкуева, сост. С.С. Юдин, К.А. Пахалюк, Н.С. Гусев и др.
М.: Яуза, 2017.
Интернет магазин book24.ru


