«Ехала столица в Могилев» – так называется еще одна книга нашего давнего автора Якова Алексейчика, вышедшая в издательском доме «Белорусская наука». Уже само ее название намекает на то, что книга посвящена неординарному событию в белорусской истории. В самом деле, в конце 30-х годов уже минувшего ХХ столетия руководством БССР и СССР было принято решение сделать белорусской столицей город Могилев. В книге на основе архивных материалов рассказывается о том, под влиянием каких факторов – внутренних и внешних – состоялось то весьма дорогостоящее решение, как оно выполнялось, какие на это были затрачены силы и средства, какие возникали трудности, почему все-таки столицей белорусской республики остался Минск...
Книгу можно приобрести в городе Минске в Академкниге, а также в книжных магазинах других белорусских городов.
Читателям сайта предлагается одна их глав книги, в которой раскрываются многие нюансы ситуации тех лет.
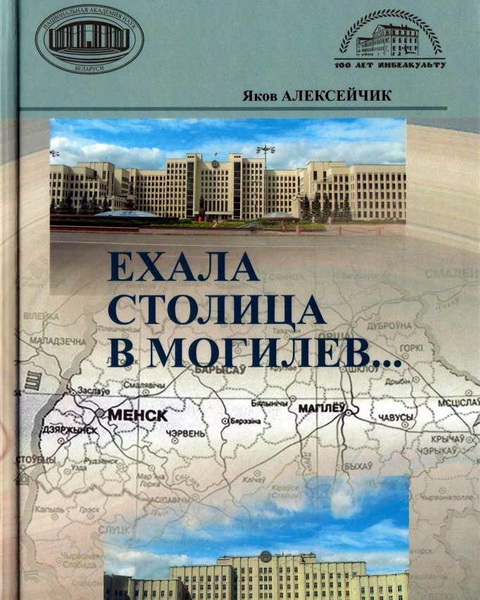
Обложка книги «Ехала столица в Могилев»
***
НЕРВИРУЮЩЕЕ СОСЕДСТВО
Решение перенести столицу в город на Днепре было продиктовано, разумеется, отнюдь не возгоревшимся у республиканского начальства желанием переселиться на большую реку с прекрасными видами из кабинетных или квартирных окон, просторными пляжами на ее берегах, потому, что ему уже изрядно надоело жить на узкой и мелководной Свислочи. Да и весьма уж дорогостоящей была затея, чтобы какие-то побуждения личностного толка были легко приняты в расчет при формулировании и утверждении подобного решения. Притом дорогостоящей, опять напомним, не только для республиканского бюджета. Ведь Могилев тоже предстояло не просто существенно переобустроить, а в определенном смысле и построить заново, прежде чем то самое начальство начнет паковать свои чемоданы для переезда на Днепр. Для того, чтобы белорусская столица уехала из Минска в Могилев должны были заявить о себе более весомые доводы, имеющие не только, даже не столько республиканское значение. Конечно же, причины сугубо внутреннего характера, побуждающие к такому отъезду, тогда, безусловно, наличествовали. Они-то, в первую очередь, и были названы в специальной записке, предназначенной для руководства СССР. Во-первых, отмечено, что Минск «слабо связан железнодорожными и шоссейными магистралями... с центрами Союза», из чего проистекают «большие неудобства в руководстве республикой». Во-вторых, утверждалось, что этой слабой связанностью создавалась значительная «оторванность от столицы наиболее отдаленных районов». И все потому, что Минск «расположен в крайне западной части БССР».
Однако же, принимая столь важное для републики – и не только для нее – решение, бюро ЦК КП(б)Б, несомненно, руководствовалось и иными, притом, можно в этом не сомневаться, куда более тревожащими факторами. Игнорировать их попросту не представлялось возможным не только в Минске, но и в Москве, без ведома которой то постановление не могло появиться. Они проистекали не столько из действительных или воображаемых сугубо внутренних белорусских трудностей в деятельности государственных, хозяйственных, общественных структур, сколько из опасностей для всей большой страны. Не случайно в документе было подчеркнуто, что прежде всего нужно считать «политически целесообразным (выделено мной – Я.А.) перенести столицу из Минска в город Могилев». И обозначенная политическая целесообразность больше всего диктовалась внешними причинами, исходящими как раз из того, что Минск находится не просто близко, а «очень близко от польской границы». Если постараться быть максимально точным, то до 17 сентября 1939 года, это значит до похода Красной Армии, ставшего для белорусов – и не только белорусов – освободительным, расстояние от главного минского вокзала до пограничной тогда железнодорожной станции Негорелое, через которую в октябре 1932, возвращаясь из эмиграции, въезжал в СССР Максим Горький, по рельсам составляло всего 49 километров 900 метров. А отношения между Советским Союзом и довоенной Речью Посполитой были весьма и весьма напряженными. Более того, несмотря на подписание в 1932 году договора о ненападении, они с каждым годом становились все накаленнее. По мнению тогдашнего первого заместителя наркома или, говоря нынешним языком, заместителя министра иностранных дел СССР В.П.Потемкина, во второй половине 30-х советско-польские связи опустились до уровня «хуже некуда», о чем он прямо сказал в протокольной беседе с только что прибывшим в Москву новым чрезвычайным и полномочным послом Речи Посполитой Вацлавом Гжибовским. Однако, как вскоре выяснилось со всей очевидностью, и пан Вацлав, появившийся в главной советской столице чуть больше, чем за год до принятия решения о превращении Могилева в главный центр Белорусской ССР, тоже приехал не для того, чтобы их улучшать.
Красноречивым нюансом состояния двусторонних отношений между СССР и Речью Посполитой, сложившихся в предшествующее второй мировой войне десятиление, является и то, что средства массовой информации Советского Союза, включая белорусские, называли Польшу не иначе, как фашистским государством, источающим для советских республик постоянную угрозу, к отражению которой надо быть постоянно готовыми. Вообще-то не было редкостью такое же определение, касающееся Польши, для западноевропейских периодических изданий и даже для польских газет и журналов левого толка. Притом оно закрепилось за межвоенной Речью Посполитой даже раньше, чем за Германией, которая «удостоилась» его только после прихода к власти фюрера нацистов Адольфа Гитлера. Надо полагать, закрепилось по аналогии с Италией, руководимой тогда создателем Национал-фашистской партии Бенито Амилькаре Андреа Муссолини, о котором даже в его официальном титуле говорилось, что он вождь – по-итальянски дуче – фашизма. О таком политическом и историческом «первенстве» Муссолини нынче редко впоминают, поскольку на поле борьбы с инакомыслящими его вскоре «перещеголял» германский фюрер – по-немецки тоже вождь – Адольф Гитлер, которого даже римский дуче поначалу называл варваром и недавним пациентом психиатрической больницы. Отнесение Польши к государствам фашистского типа уже в конце 20-х годов, скорее всего, состоялось на том основании, что накал национализма, антилиберализма, антикоммунизма, вождизма на берегах Вислы был ничуть не меньшим, чем в Италии, а руководивший Речью Посполитой маршал Юзеф Пилсудский никак не уступал итальянскому дуче по своим авторитарным замашкам, позволяя себе даже конституцию своей страны называть словом с прозрачным намеком на даму низкого социального поведения – конституткой. В Польше было время, когда Пилсудского и официально величали Начальником государства.
В Белорусской ССР об исходящей от Речи Посполитой опасности, а также о том, как плохо в ней живется трудящемуся люду, особенно нашим собратьям-белорусам, пресса писала практически ежедневно. В последнем номере главного партийного журнала “Бальшавік Беларусі” за 1929 год популярный тогда автор этого ежеквартальника А. Некрашевич без тени сомнения утверждал, что “польскі фашызм з”яўляецца адным з аванпостаў імпэрыялістаў у справе нападу на СССР”. В самом деле в 30-е годы минувшего столетия довольно прилично вооруженная и весьма враждебно настроенная к восточному соседу Польша трактовалась в СССР и БССР не только как грозная, но поначалу даже главная угроза, исходящая с запада, так как она была и более близкой. Германия по тем меркам находилась все-таки довольно далеко от границ Советского Союза, вдобавок она была за польской спиной, нигде не соприкасалась с СССР территориально. Да и Гитлер не сразу продемонстрировал все свои «способности», агрессивные намерения. Ему понадобилось время, чтобы сначала набраться политических сил и веса внутри страны, укрепить экономику, нарастить армию, серьезно урезанную Версальским договором, подводившим черту под первой мировой войной, а уж потом махнуть рукой на тот договор, перестать обращать внимание на Лигу Наций – своеобразную предшественницу нынешней ООН. И все это ему удалось сделать при явном пособлении варшавских политиков. Ощущение польской опасности для СССР с середины 30-х годов стало обостряться в связи с все более и более приязненными и расширяющимися контактами между второй Речью Посполитой Юзефа Пилсудского и третьим рейхом Адольфа Гитлера.
Официальный старт таким отношениям был дан в январе 1934 года, но сигналы на сей счет из Варшавы в Берлин начали поступать еще раньше. Инициатором их улучшения выступил лично польский маршал, притом начал он это дело сразу же после прихода Гитлера и его сподвижников к руководству Германией, случившегося в январе 1933 года. По поручению Юзефа Пилсудского посол Речи Посполитой в Берлине Альфред Высоцкий напросился на прием к Гитлеру, что поначалу удивило самого немецкого фюрера. Та встреча состоялась 2 мая того же года. После нее события пошли таким скоростным чередом, что уже в октябре в Варшаве было подписано польско-германское экономическое соглашение. В тот же день Германия вышла из Лиги Наций, а ее интересы в этой международной структуре взялась представлять опять же Речь Посполитая. В ноябре Пилсудский назначил новым послом Польши в Берлине Юзефа Липского ивместе с нм передал Адольфу Гитлеру свое личное послание, в котором выразил удовлетворение приходом нацистов к власти, а также предложил заключить двустороннее польско-немецкое соглашение. Положительный ответ и проект соответствующего документа из Берлина последовал незамедлительно. После уточнения отдельных деталей 26 января 1934 года Польша первой в Европе заключила с Германией так называемую декларацию о ненападении, которую в публикациях, посвященных тому событию, до сих пор часто называют пактом Пилсудского–Гитлера, хотя свои подписи под ней ставили посол Речи Посполитой Юзеф Липский и министр иностранных дел рейха Константин фон Нейрат.
Такой польский поворот во внешней политике, приведший к появлению декларации, явился абсолютной неожиданностью для европейских государств, особенно для Франции, для которой не только политической, но и военной союзницей была именно Польша. Да и для многих варшавских политиков это тоже стало нежданно-негаданным известием. Бывшие польские премьеры Игнацы Падеревский, кстати, широко известный в Европе и как композитор, а также Винценты Витос и Владислав Сикорский даже обратились к президенту Речи Посполитой Игнацы Мосьцицкому с предложением привлечь за это к ответственности министра иностранных дел Юзефа Бека, однако тот никак не отреагировал на их призыв, поскольку знал, кто именно – и никто больше – за той инициативой и последовавшей за ней декларацией стоит. Вызывало и до сих пор вызывает некоторое удивление даже название декларации, ведь на тот момент никакое нападение со стороны Германии Польше не грозило. Оно попросту не было возможным хотя бы потому, что немецкая армия, ограниченная условиями Версальского договора, была в несколько раз меньше польской. Значит, логично допущение, это Гитлер застраховал свой рейх от нападения Речи Посполитой. А такое тоже, оказывается, не исключалось.
В любом случае неизбежен вопрос, почему все-таки Пилсудский пошел, лучше, видимо, сказать, почему он решился на такой необычный тогда шаг навстречу Германии. Не видел потенциальных опасностей, вытекающих из прихода нацистов к власти в этом государстве? Вряд ли такое предположение допустимо. Скорее, наоборот. Как впоминал впоследствии в своей книге «Москва, Токио, Лондон. Двадцать лет германской внешней политики» известный германский дипломат Герберт фон Дирксен, поочередно представлявший свою страну и в Польше, и в СССР, и в Японии, и в Великобритании, польский маршал, будучи реальным начальником Речи Посполитой во всех смыслах этого слова, поначалу даже предлагал Франции «начать агрессивную войну против национал-социалистической Германии». В самом деле, такое предложение с польской стороны в Париж поступало. Даже дважды. Поначалу его «отвозил» во французскую столицу сенатор Ежи Потоцкий, затем это сделал командир кавалерийской дивизии генерал Болеслав Венява-Длугошовский, в карьере которого была и должность личного адъютанта маршала Пилсудского. Однако французы отказались, лишать немцев их, так сказать, «демократического выбора», а впридачу выразили сомнение в боевых возможностях польской армии, особенное ее высшего командования. Просто напомнили, что заместитель Юзефа Пилсудского по военным делам Эдвард Рыдз-Смиглый учился в Академии изящных искусств в Кракове, затем овладевал приемами живописи в Вене и Мюнхене. Генерал Владислав Сикорский имел диплом дорожностроительного инженера. Генерал Казимеж Соснковский приобретал знания в политехническом институте. Генерал Болеслав Венява-Длугошовский, слывший в то время польским уланом № 1, с которого не сводили глаз все дамы Речи Посполитой, тоже поначалу изучал медицину, затем стал студентом Берлинской академии искусств, французам было известно и то, что до начала первой мировой войны некоторое время поработал частным доктором в Париже. Военные курсы он закончил после польско-советской войны уже в звании полковника, хотя в ходе той войны успел поисполнять обязанности шефа штаба 1-й конной дивизии. В основном в ходе чтения различных военных мемуаров получал полководческие навыки и маршал Пилсудский. Оскорбленный такими намеками, польский руководитель принял решение сугубо противоположного порядка – пойти на сотрудничество с нацистским лидером.
Почему именно он так решил действовать? Ведь, если на то пошло, после французского отказа ощущение потенциальной опасности со стороны Германии у него должно было усилиться, поскольку оно не разделялось главным польским союзником, значит, оставалось рассчитывать только на себя. Однако, оказывается, маршал, во-первых, самоуверенно решил, что сможет направить агрессивные намерения фюрера в обход Речи Посполитой, на юг Европы, а уже оттуда – на восток, в том числе на ненавистный ему советский восток, из чего Польша сможет извлечь для себя выгоду, отмечает польский военный историк Ян Цялович в книге «От Костюшко до Сикорского». Это значит, нацелить Гитлера на ту же Чехословакию, с которой отношения у Речи Посполитой тоже были совсем прохладными, ее Пилсудский пренебрежительно называл искусственным государственным образованием. Или на Австрию, аншлюс которой, как утверждал тот же Ян Цялович, был подсказал нацистскому фюреру именно Пилсудским. Всего через четыре года после польско-германского соглашения о ненападении эти два государства и стали первыми жертвами гитлеровского рейха. Весьма авторитетный в довоенные годы польский политик и политолог Станислав Цат-Мацкевич тоже признавал в своих публикациях, что именно сближение Польши с Германией дало Гитлеру возможность провести не только аншлюс Австрии, но и последовавшее за этим расчленение Чехословакии.
Выстраивая свои планы, главный человек в довоенной Речи Посполитой исходил еще и из того, что молодого и явно неискушенного в европейских делах Гитлера он запросто обведет вокруг собственного политического пальца. Современный польский историк Войцех Матерский пишет, что именно этим доводом – намерением обвести вокруг пальца нового германского руководителя – польские дипломаты негласно пытались успокоить всю Европу, объясняя причины подписания той самой декларации. В том числе заморочить голову и Москве. В начале апреля 1935 года начальник Главного управления государственной безопасности НКВД СССР Абрам Слуцкий информировал руководство Советского Союза о следующих утверждениях военного атташе Польши во Франции полковника Блешинского: «Старый игрок... не даст себя обмануть молодому Гитлеру». Маршал Пилсудский, мол, «его использует для крупной политической игры, о чем мы только в будущем узнаем», упорно внушал всем полковник. Далее, однако, советский агент в Париже, имевший и другие источники информации, сообщал и куда более важные для Москвы вещи: «Эти слова Блешинского были поняты в том смысле, что польско-немецкие отношения скреплены военным союзом, за которым скрываются агрессивные планы обоих союзников по отношению к восточным соседям».
Во-вторых, что тоже весьма и весьма немаловажно, польский маршал рассчитывал и на ответную взаимность нацистского лидера, полагая, что Гитлер, как минимум, не станет обижать тех, кто оказал ему помощь в трудное для фюрера время. Более того, пишет Ян Цялович, Пилсудский утверждал, что даже знает цену, которую за это заплатит ему фюрер. Ею, надеялся Начальник Речи Посполитой, должна была стать передача Польше Восточной Пруссии, что на самом деле Гитлеру просто не могло прийти в голову, так как он вовсе не собирался отдавать чего-либо кому-то, а, наоборот, намеревался побольше прибрать к собственным рукам. Однако со всей очевидностью проистекает, что, выстраивая свои планы на будущее, Пилсудский попросту не принимал ни в расчет, ни даже к сведению то, какие проблемы, неприятности, опасности задуманное им перенацеливание фюрера принесет соседям Речи Посполитой, той же Чехословакии, а далее Румынии, Болгарии, не говоря уже об СССР.
Появление польско-германской декларации весьма удивило даже немцев, о чем сразу написала берлинская пресса. Мол, с чего бы это поляки стали помогать Гитлеру вырвать рейх из международной изоляции, в которой тот оказался после ухода из Лиги Наций и Женевской конференции по разоружению, проводимой под эгодой той самой Лиги Наций. Но спустя буквально считанные дни германские политики пришли к выводу, что декларация пусть и стала единственным достижением Гитлера на международном поле, она, тем не менее, весьма основательно поспособствовала сплочению нацистских рядов, а главное – явилась «наилучшим доводом в пользу того, что временный период, как поначалу трактовалось правительство Гитлера, закончился». Более того, вскоре она была названа «изумляющим и ошеломляющим завершением первого года правления Гитлера». Говоря другими словами, декларация помогла фюреру нацистов усидеть в кресле канцлера – так по-немецки называется должность главы германского правительста. Приведенные высказывания, громко зазвучавшие в те дни в Берлине, цитировала и польские издания, например, газета «Kurjer Warszawski», в чем легко убедиться, заглянув в электронную библиотеку Варшавского университета. Корреспондент «Курьера...» подробно сообщал и том, насколько высоко, к примеру, берлинская пресса, в частности, газета «Таг» возносила «личные заслуги маршала Пилсудского и канцлера Гитлера в реализации соглашения», подчеркивая, что только у них «могло получиться то, на что никогда не сподобятся дипломаты».
В первой декаде марта 1934 года последовало новое соглашение между двумя странами, прекратившее тянувшуюся много лет так называемую таможенную войну этих соседей. В середине июня министр пропаганды рейха Йозеф Геббельс отправился с визитом в Варшаву, где был принят самим маршалом Пилсудским, притом принят им, несмотря на плохое самочувствие Начальника, что явно видно и на сделанных во время той встречи фотографиях. Потом в Польшу наведался рейхсфюрер СС Генрих Гимлер, зачастил председатель рейхстага Германии, он же министр-президент Пруссии, рейхсминистр авиации и главный имперский лесничий Герман Геринг, которого принимал и президент Речи Посполитой Игнацы Мосьцицки. В свою очередь без высокопоставленных польских гостей не проходил ни один нацистский съезд в Нюрнберге. Чаще других бывал на тех высших гитлеровских сходках главный комендант государственной полиции Речи Посполитой генерал Кордиан Заморский, притом приезжал туда он не спустыми руками, а с приглашениями посетить Польшу.
Двустороннее польско-немецкое взаимодействие стало развиваться так быстро, что в короткий срок охватило не только военное дело, экономику, торговлю, культуру. Оно зашло столь далеко, что была создана двусторонняя комиссия по сближению законодательства двух стран. Проводились совместные конференции, на которых обсуждались единые школьные учебники по истории. В то время в Речи Посполитой можно было попасть в тюрьму даже за неуважительное слово, сказанное по адресу нацистского фюрера. Так случилось в 1935 году с владельцем одного из варшавских аптечных складов Нухимом Хальберштадтом, отказавшимся вступить в деловой контакт с германской фирмой, «пока Гитлер со своими голодранцами правит в Германии», добавившим при этом, что, пока правит Гитлер, «ни один порядочный человек не станет поддерживать отношений с вами». Как сообщала польская газета «Dziennik narodowy» в сентябре 1935 года, судья Ляшкович приговорил Хальберштадта к восьми месяцам заключения. От более длительного срока Нухима спас довольно пожилой возраст, так как прокурор требовал дать ему два с половиной года. В октябре того же года месяц тюрьмы схлопотал и М. Пустельник – редактор журнала «Polonia», а в январе 1937 в Вильно, входившем тогда в состав Речи Посполитой, за неуважительные куплеты о Гитлере засудили сценического актера, выступавшего под псевдонимом Дон Эля.

Сообщение в польской газете о судде над Н.Хальберштадтом.
Вспоминая о подписанной в январе 1934 года польско-германской декларации, никак нельзя не отметить, что ее появление позволило немецкому фюреру не обращать внимания на Лигу Наций, не реагировать на ее предложения и решения, а также не выполнять требований Версальского мира, касающихся ограничения немецких вооружений. Уже через год Гитлер распорядился в пять раз увеличить армию, переименовав ее в вермахт, ввел всеобщую воинскую повинность, махнул рукой на запреты, касающиеся авиации, бронетанковых сил, крупной артиллерии, которых и вовсе не разрешалось Германии иметь. Он стал максимально быстро наращивать удельный вес военных расходов, всего за четыре года доведя их до половины годового государственного бюджета. Польская газета «Diennik kresowy» 9 апреля 1935 года сообщала, что в центре Берлина в срочном порядке – в три смены – строится гигантское здание министерства авиации, а 1 мая информировала своих читателей, что «Германия приступила к расширению военного флота».
Не менее важно и то, что с появлением польско-германской декларации о ненападении стал терять свое изначальное значение польско-французский военный союз, до этого фактически державший Германию в клещах: на западной ее стороне стояла мощная французская армия, на восточной – отнюдь не слабенькая польская, для оснащения и обучения которой те же французы приложили очень много усилий. Не случайно же вторым после Юзефа Пилсудского польским маршалом в истории Речи Посполитой стал французский маршал Фердинанд Фош. Во время «войны с Советами» Франция оказала Польше куда более значимую помощь в вооружении армии и обучении ее кадров, чем генералу Деникину и подчиненны ему Белым силам юга России. И вот одна из сторон тех клещей нежданно-негаданно для всей Европы не только отваливается, но и, вдобавок, превращается в дружественную для Германии. Контакты польских и немецких военных, обмены визитами, включая заходы польских военных кораблей в германские порты, совместные учения становятся привычным делом. Немецкие и польские издания публикуют снимки, на которых Гитлер мило беседует с польскими моряками, «случайно встреченными в аэропорту». Европейская пресса подчеркивает исключительную пользу подписанной декларации именно для нацистской Германии. Например, британская газета «Observer» тогда пришла к заключению, что та польза для Гитлера «попросту неоценима», ибо теперь, будучи свободным от «наихудшей опасности пребывания меж двух огней, Третий рейх может спокойно выстраивать свою мощь». Вывод чехословацких «Lidowych Nowin» был совсем краток, но куда более категоричен: «Гитлер разорвал цепь, изолирующую Германию».
Нельзя не вспомнить, что после подписания той декларации французские газеты «Эко де Пари» и «Попюлер» писали и о «секретном польско-германском соглашении», которое к ней прилагалось. О том же твердила и швейцарская пресса, а британские агентство «Уик» сообщало о наличии польско-немецкой договоренности напасть на СССР. Публиковали тогда текст секретного соглашения и советские «Правда», «Известия», другие издания. И ни германская, ни польская сторона таких сообщений не опровергали. Все перечисленное дает веские основания сказать, что именно польско-германская декларация, подписанная в январе 1934 года, стала первым и весьма основательным действом, позволившим Гитлеру в короткие сроки окрепнуть, вырулить на дорогу, ведущую к развязыванию второй мировой войны и затем настырно торить ту дорогу.
Об особом значении декларации для рейха само за себя говорит и то, как немецкие власти отреагировали на смерть Пилсудского, случившуюся 12 мая 1935 года. Гитлер тогда объявил всегерманский траур – следующий в рейхе случился только после катастрофы немецкого вермахта под Сталинградом. Фюрер лично присутствовал в берлинской кирхе святой Ядвиги на специальном молебне, посвященном проводам польского маршала в мир иной, чего он впоследствии никогда больше не делал, послал в Варшаву два соболезнования – польскому руководству и жене маршала Александре. Тот же «Diennik kresowy» 15 мая сообщал, что «вся берлинская пресса опубликовала обширные некрологи по случаю смерти маршала Пилсудского, а также портреты Маршала Польши», притом подчеркивалось, что поместила их «на главных местах». А германское правительственное информационное бюро заявило, что эта смерть «до глубины возбудила немецкое сознание, которое в минуты народной печали особенно близко к польскому». В Варшаву на похороны Пилсудского поехал второй человек в рейхе – маршал Герман Геринг. На отпевании польского Начальника он сидел у гроба, сразу за спиной его вдовы.
В современной Польше многие исторические нюансы такого рода политики стараются оставлять в потемках, а в случаях напоминания о них зачастую реагируют резко и болезненно. Однако без знания и учета подобных деталей невозможно понять многое из того, что происходило в межвоенной Европе, в самой Речи Посполитой, уловить, почему она вела себя так, а не иначе, в частности, по отношению к своему восточному соседу, к которому Польша не считала нужным хотя бы приличия ради – политического, дипломатического – скрывать свою враждебность. Зарубежные дипломаты, работающие в Варшаве, тогда стали констатировать даже такое явление в польском обществе, как «национальное чувство ненависти к России», о чем еще в 1932 году прямо написал в своей служебной записке, направленной в Париж, французский посол Лярош. Нет сомнений, что о том же сообщали своему начальству и советские дипломаты, аккредитованные в столице на Висле. В Москве и в Минске, разумеется, не могли оставить без внимания и слова польского министра иностранных дел Юзефа Бека, который заявил, что он не находит «достаточно эпитетов» для характеристики «ненависти, которую в его стране испытывают к России». Он открыто говорил об этом своему французскому коллеге Луи Барту в присутствии известной парижской журналистки Женевьевы Табуи, это значит совершенно не остерегаясь, что его высказывания станут известны и за пределами кабинета, в котором происходила беседа.
О том, что настороженное отношение к тогдашней Польше, вызревавшее и крепнувшее в СССР не один день и даже не один год, не могло не влиять на формирование важнейших тезисов советской внешней да и внутренней политики, тем паче военной, свидетельствуют и недавно рассекреченные военные документы, относящиеся к временам, о которых идет речь. В частности, это специальная записка, которую начальник генерального штаба Красной Армии маршал Советского Союза Б.М.Шапошников направил 27 марта 1938 года народному комиссару обороны СССР маршалу К.Е.Ворошилову. В ней, появившейся в открытом доступе на сайте российского министерства обороны только осенью 2019 года, Борис Михайлович отмечал, что «Советскому Союзу надо быть готовым к войне на два фронта: на Западе против Германии и Польши и частично против Италии с возможным присединением к ним лимитрофов и на востоке против Японии». При этом, особо подчеркивал руководитель советского генштаба, главные и «наиболее вероятные противники на Западе – Германия и Польша». По его расчетам, Германия в случае войны выставит против СССР 96 пехотных, 5 кавалерийских, 5 моторизованных, 30 танковых дивизий и 3000 самолетов, а Польша – 65 пехотных дивизий, 16 кавалерийских бригад, 1450 танков и танкеток, 1650 самолетов. В сумме – «161 пд, 13 кав.див., 7250 танков и танкеток, 4650 самолетов». Можно не сомневаться, для столь однозначного вывода красному маршалу обязательно нужны были неопровержимые, неоднократно проверенные доказательства, на которых Шапошников строил свои выводы. Значит, он их имел. Вряд ли советской разведке и советскому руководству, не было известно и то, что в Речи Посполитой к началу 1939 года был готов план войны против СССР, называемый «Восток», что еще в декабре 1938 года генеральный штаб Войска Польского сформулировал тезис, согласно которому "расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке», что Польша ни в коем случае «не должна остаться пассивной в этот замечательный исторический момент».
В советские времена у нас об этих нюансах не принято было вспоминать, дабы не обидеть «друзей по социалистическому лагерю», однако без обращения к ним невозможно понять и решения о переносе столицы БССР в Могилев. Ведь на фоне сближения Польши с Германией наиболее остро опасная близость к границе ощущалась как раз в белорусском Минске, где ясно осознавали, что в случае военного конфликта с этим западным соседом уже через какой-то десяток минут город сможет атаковать польская авиация. Не исключено, что вместе с германской, если вспомнить о выводах, сформулированных маршалом Б.М.Шапошниковым. Вполне досягаемым был тогда Минск и для польской дальнобойной артиллерии.
Кроме того, у руководителей БССР имелись и другие, тоже особые поводы для более обостренного беспокойства, связанного с политикой Речи Посполитой. В данном случае речь идет об исторических причинах. Притом не так уж давних. И в бюро ЦК КП(б)Б, и в Совнаркоме БССР, конечно же, хорошо помнили, что граница с Польшей оказалась в полусотне километров от Минска не в силу этнических обусловленностей, а в результате ничем не спровоцированного польского нападения и последовавшей за ним двухлетней войны. Случилось так, что белорусское государство, заявленное как Советская Социалистическая Республика Белоруссия, подверглось иностранной агрессии всего через шесть недель после ее провозглашения, состоявшегося 1 января 1919 года. Объявленную раньше – в условиях германской оккупации – Белорусскую народную республику трудно считать реальным государственным образованием, так как компетенция тех, кто ее провозглашал, фактически не выходила за пределы кабинетов, в которых они заседали. Не признали ее даже немцы, под военным крылом она появилась, а польские политики и на международных форумах не стеснялись открыто называть БНР фикцией. Однако в данном случае речь идет о куда более важном политическом и историческом факторе. В истории белорусского государства никуда не деться от того, что самой первой иностранной военной интервенции белорусская республика, как бы кто ее не называл – БНР, ССРБ, БССР – подверглась со стороны соседней Польши. Той самой соседки, которая о собственной независимости заявила лишь на полтора месяца раньше БССР – 11 ноября 1918 года.
Военный конфликт на белорусской территории вспыхнул 14 февраля 1919 года, когда польские военные формирования атаковали красноармейские гарнизоны в местечках Береза-Картузская и Мосты, которые находятся примерно в ста километрах к востоку от Бреста и Гродно. Кстати, нюанс, связанный с этими километрами, имеет весьма существенное значение. Ведь историческая граница Польского королевства, а затем и входившего в состав Российской Империи Царства Польского, на фундаменте которого была провозглашена возрожденая Польша, пролегала на противоположной стороне Бреста, западнее этого города и даже западнее ныне польского Белостока, что опять же редко упоминается в публикациях, посвященных той войне, в том числе и в белорусских. Как правило, «забывается», что в объявленной 11 ноября 1918 года Речи Посполитой польские органы государственной власти были образованы только на территориях бывшего в составе России Царства Польского, поскольку поначалу ни Гериания, ни Австро-Венгрия не собирались возвращать земли, присвоенные ими после разделов, состоявшихся в конце девятнадцатого столетия. В том же Белостоке их не было до февраля 1919 года, когда началось польское наступление на восток. Всем, кто продолжает проклинать «коварный сговор Сталина с Гитлером» в 1939 году, не мешало бы помнить и о том, что наступление на Березу и Мосты 14 февраля 1919 года тоже состоялось «в сговоре» с германским военным руководством. В частности, к Березе и Мостам польские воинские подразделения были пропущены немцами по соглашению с командующим десятой германской армией генералом Эрихом фон Фалькенгайном, штаб которого находился как раз в Белостоке. Договоренность с ним понадобилась варшавским властям потому, что на момент польского удара по гарнизонам в названных местечках все польские и значительная часть белорусских и украинских земель еще находились под германской оккупацией. Правда, рейхсвер – так тогда называлась германская армия – после ноябрьской революции в Берлине, свержения кайзера с престола и аннулирования позорного для России Брестского мира уже постепенно отступал на запад, назад в Германию. На белорусских территориях на смену ему приходила Красная Армия. На момент начатой Варшавой польско-советской войны линия разграничения между рейхсвером и красноармейскими частями проходила как раз около Березы и Мостов. К ним и пропустил фон Фалькенгайн польские воинские формирования. Как утверждают, пропустил, чтобы поляки на своей территории не создавали препятствий для продвижения германский войск, возвращающихся домой.
Та война, начатая Польшей, для БССР длилась два года, один месяц и четыре дня. Важнейшей мотивацией варшавских политиков для ее развязывания было утверждение, что права на земли восточнее Буга принадлежат Варшаве, так как ранее, мол, они входили в первую Речь Посполитую, разделенную в конце восемнадцатого века тремя соседками – Австрией, Пруссией и Россией. Однако опять же остается в исторической тени, что упомянутая Речь в действительности была не Польшей, а конфедерацией, состоящей из Королевства Польского и Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского. И у королевства, и у княжества имелись свое правительство, своя армия, свой бюджет, свое законодательство, более того, на границе между ними действовала таможенная служба, взимавшая соответствующие платежи с тех, кто ее пересекал. Общими были только выборные король, он же великий князь литовский, да сейм. Правда, внутренняя польская экспансия в той конфедерации постоянно усиливалась и в религиозном, и в языковом, и иных смыслах, сомневаться в чем нет исторических оснований. Варшавой ставилась цель все без исключения сделать именно польским, на польский манер. Как писал даже в социалистические для Польши времена известный польский историк Ежи Лоек, главной сутью, если можно так выразиться, «союзного процесса», начатого Кревской унией 1385 года и женитьбой литовского князя Ягайло на польской королеве Ядвиге, а затем форсированного Люблинской унией 1569 года, было превращение конфедерации в «унитарное, сугубо польское государство», что, по его мнению, и было завершено принятием сеймом Речи Посполитой Конституции 3 Мая 1791 года, день провозглашения которой и теперь является одним из главных польских праздников. Те четыреста лет, о которых говорил Ежи Лоек, не могли пройти бесследно. Посему из польских уст доныне зачастую звучат слова, что Минск – это польский город, а без Вильно и Львова многим в современной Речи Посполитой и вовсе невозможно представить польский мир – даже так, не колеблясь, продолжают время от времени самоуверенно заявлять политики в Варшаве.
Нынче на Висле – и не только – нередко звучат утверждения, будто разделенная тремя империями первая Речь Посполитая являлась для Европы потерянной драгоценностью. Даже на белорусских равнинах и взгорьях кое-кто пытается представить дело именно таким образом, будто она была серебряным веком для всех проживавших в ней народов. Однако, скорее всего, это стремление выдать желаемое за действительное. Современный авторитетный в европейских научных и политических кругах британский историк Норман Дэвис, автор двухтомной истории Польши, изданной под явно неоднозначным названием «Божье игрище. История Польши» («Boże igrzysko. Historia Polski»), напоминает, что в попавшей под раздел первой Речи Посполитой «девять десятых населения жило в нищете и неволе», что ее называли «кабаком Европы», потому «в мире, который не заботили судьбы Польши, ее разборы прошли почти незамеченными». В самом деле, ни Британия, ни Швеция, ни Франция, имевшие большой вес в определении политической погоды в Западной Европе и не только в Европе, против разделов не возражали. Османская империя, границы которой проходили не так уж далеко от Вены, тоже отмолчалась. Не менее важно в этом контексте и то, что после первой мировой войны и краха империй-разделителей ни белорусы, ни литовцы, ни украинцы, ни латыши – притом всех политических ориентаций – не пожелали участвовать в восстановлении «потерянной драгоценности», то есть Речи Постолитой, а предпочли заиметь свою собственную государственность. Вот только поляки, вновь обзаведясь политической и территориальной самостоятельностью, сразу же, кстати, признанной Советской Россией, никому из соседей не намерены были ни пожелать, ни тем более предоставить такой же статуса. Единственным способом общения с Москвой маршал Пилсудский называл войну, а предложения, исходящие, скажем, от Минска, попросту игнорировались. В результате и литовцам, и белорусам, и украинцам, и латышам за обретение собственного суверенитета пришлось серьезно повоевать с высоко ценящими свою свободу поляками, притом повоевать при активном пособлении русских, которым тоже и с применением оружия довелось позаботиться о сохранении своих земель.
Нельзя не сказать и о ом, что еще один мотив, обусловивший польский удар на восток в феврале 1919 года, полыхал откровенным высокомерием по отношению к соседям, проживающим к востоку за Бугом и Неманом, притом ко всем им без исключения. Как утверждал в те годы Роман Дмовский, считающийся и ныне отцом польского национализма, литовцев слишком мало, чтобы они могли иметь свое отдельное государство. Белорусы – это деревенский народ, и пока он находится «на очень низком уровне просвещения и не высказывают сформулированных национальных устремлений», надо отовать его от востока. Пилсудский выражался еще резче: белорусы – это ноль. Львов, твердили в Варшаве, король Казимир Великий еще в четырнадцатом веке присоединил к Польскому королевству – как же теперь отдавать его украинцам. Для Романа Дмовского было бы куда приятнее, если бы «украинцы, населяющие Волынь, жили где-либо в других местах». Возрождавшаяся Польша виделась ему государством, вдвое большим, чем Германия и Франция, вместе взятые, чтобы играть ведущую роль на континенте. В его специальном «Мемориале», направленном президенту США Вудро Вильсону, не только Гродненская губерния, включавшая тогда и Брестчину, но и Витебщина, Могилевщина были названы «давними территориями польского государства». На такого же рода основаниях глава новой Польши маршал Пилсудский сформулировал принцип, гласящий, что на западе его страна будет иметь границы, которые позволит Антанта, а вот на востоке – те, которые поляки смогут завоевать.
Случившуюся тогда войну отнюдь не случайно на берегах Вислы теперь называют польско-советской. Ведь при подобном повороте делается акцент на том, что вспыхнувший конфликт произошел не на национальной или территориальной почве, а главным образом потому, мол, что возрожденная Речь Посполитая защищалась сама и защищала всю центральную и западную Европу от «российского коммунизма», к которому – якобы – она не имела никакого отношения. На самом же деле сто тысяч поляков, воевавших на стороне большевиков, были как раз одной из наиболее активных движущих сил при осуществлении социалистической революции в России, а затем и утверждении новых порядков в СССР и входящих в его состав республиках. Это из польских рядов выдвинулись столь знаковые фигуры, как Феликс Дзержинский – создатель и руководитель Всероссийской чрезвычайное комисии – ВЧК, денно и нощно искавшей врагов революции и принимавшей по отношению к ним соответствующие решения, а также знаток двадцати языков Вячеслав Менжинский – его заместитель и сменщик, выходец из старинного шляхетского рода, о чем тоже напоминают энциклопедии. Как вспоминал один из самых известных польских историков Павел Ясеница, который в годы российской гражданской войны оказался в Киеве и был задержан чекистами, арестованные молили бога, чтобы их делом занимался русский, а не поляк или еврей, тогда преобладавшие в этой структуре. Из польского рода происходил и Андрей Вышинский – прокурор СССР, автор обвинительного заключения, выдвинутого в годы «большого террора» против маршала Советского Союза М.Н.Тухачевского, командармов первого ранга И.П.Уборевича и И.Э.Якира, а иже с ним Станислав Реденс – комиссар госбезопасности 1-го ранга, один из ведущих «движителей» репрессий в Москве и в Красной Армии. Среди руководителей белорусской ЧК-ГПУ-НКВД в межвоенный период был только один белорус – Филипп Медведь, зато три поляка – Ян Ольский, Станислав Пинталь и упомянутый уже Станислав Реденс. Поляк Вацлав Богуцкий в 20-е годы побыл и во главе ЦК Компартии большевиков Белоруссии. Его единокровник Станислав Косиор десять лет возглавлял ЦК Компартии Украины. Этот список можно продолжать очень долго. В публикации под красноречивым названием «Не только Дзержинский» современный польский историк Анджей Андрусевич напоминает и о том, что поляк «капитан Константы Дзевянтовски был комиссаром Петроградского военно-революционного комитета и комендантом охраны Смольного, в котором размещался штаб революции» в 1917 году. Для названного профессора отнюдь «не подлежит сомнению, что среди всех национальных групп, поддерживающих большевиков, поляки составляли наибольший процент».
Весьма важным свидетельством того, что польский удар на восток, начатый в феврале 1919 года, не был вызван только намерением остановить волну социалистической революции, является и нежелание Пидсудского взаимодействовать с белыми армиями юга России. Командовавший теми армиями генерал А.И.Деникин в упоминавшихся уже «Очерках русской смуты» написал, что польские войска прекратили свой натиск на красных как раз тогда, когда деникинцы вошли в Тульскую губернию, откуда до Москвы оставалось чуть больше двух сотен верст. Большевики уже всерьез готовились вновь уйти в подполье. В той остановке польского наступления А.И.Деникин видел чуть ли не главную причину, помешавшую свергнуть большевиков.
Термин «польско-советская война» – на самом деле – является откровенным камуфлированием еще одной ситуции. Инициированный польской стороной удар на восток, который невозможно обойти вниманием, фактически стал эгоистичным нападением только что возродившейся Польши сразу на несколько молодых государств: на литовское, белорусское, на Западно-Украинскую народную республику, Украинскую народную республику, обе из которых вовсе не были советскими. Даже на Латвию, так как польские войска захватывали и Даугавпилс. Разумеется, была война и против Советской России, с которой молодые советские республики состояли в военном союзе, заключенном именно для защиты от польского удара. Тот же Норман Дэвис отмечает, что падение «существовавшего устройства в Восточной и Центральной Европе», это значит Австро-Венгерской, Германской и Российской империй, «толкнуло новорожденную Речь Посполитую на ряд детских авантюр», в результате чего Польшей «в 1918-21 годах велось одновременно шесть войн». В его перечислении это украинская – за Восточную Галицию, литовская – за Виленский край, чехословацкая – за Тешинскую область, две немецких – за Силезию и так называемая польско-советская, хотя ее, как и украинскую, следует разделить на польско-белорусскую и польско-российскую. Кроме того, Норман Девис почему-то запамятовал упомянутый польско-латышский конфликт, пусть и не долгий, но все-таки случившийся. Итого получается восемь войн, из которых целых пять Польша затеяла на своей восточной стороне. В результате литовское государство, тогда тоже возрождавшееся, а также латышское, белорусское и украинские, только-только заявившие о своем праве на существование, сразу же получили удар в спину. Для одних он оказался смертельным, для других вылезал боком почти два десятка лет. В том числе для БССР.
В Минске, принимая решение и о переносе столицы, не могли не помнить, что та война завершилась для республики серьезными потерями – она лишилась почти половины своих земель. Литовцы в свою очередь остались без столицы – Вильнюса с обширными с окрестностями. Украинцы – без еще более значительного куска земель, притом настолько значительного, что испарились Западно-Украинская народная республика, Галицийская советская социалистическая республика, а не подвергшиеся польской оккупации территории Украинской народной республики – таковым тогда было написание названных государственных обазований – влились в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Кто знает, не начни поляки той войны, сохранись перечисленные государства, не случилось бы так, что галицийцы нынче обитали бы в своей стране, околокиевские украинцы – в своей , «восточники» строили бы и развивали бы собственные республики. Все жили бы по собственным обычаям и представлениям, потому не было бы теперь никакой войны на Донбассе. Кто-то по этому поводу напомнит, что история не имеет сослагательного наклонения?! Верно, не имеет. Однако сослагательное наклонение невозможно только по отношению к тому, что уже состоялось, но никому не запрещается поразмышлять, как могли бы развиваться события, пойди они иным путем.
Вообще-то не будет особого преувеличения, если к сказанному добавить, что и белорусская советская республика тогда могла вовсе исчезнуть с политической карты Европы. Как и Галицийская. В ходе той самой советско-польской войны ССРБ фактически пришлось провозглашать еще раз, уже как БССР, сразу после изгнания поляков, однако таковое могло и не случиться, если бы польское руководство, преследуя свои далеко идущие территориальные амбиции, не отвергло предложение Совнаркома РСФСР, направленное Варшаве в январе 1920 года. Советская Россия, ставшая к тому времени главной силой, противостоявшей Польше, предлагала начать переговоры о заключении мирного соглашения между сторонами и обещала, что при согласии на них Красная Армия не перейдет линии фронта, сложившейся к тому моменту. На белорусских территориях польские войска тогда вплотную приблизились к Полоцку, захватили Мозырь и вышли к Днепру более чем на трехсоткилометровом белорусско-украинском участке. Означенная линия фронта, случись инициированные переговоры, волне могла могла стать и межгосударственной границей, именно на такой исход намекало обещание не переступать ее. Чем тогда руководствовалась Москва, которую в Варшаве называли своим главным врагом, выдвигая такое предложение? В поисках ответа нужно вспомнить, что у нее в то время были военные проблемы фактически по всему периметру РСФСР. Тот же Деникин – на юге, англичане и не только они – на севере, еще крепкие колчаковцы, атаман Семенов, американцы с японцами – на востоке. Не сложно предположить, что Советская Россия, желала получить брешь в кольце фронтов, что, скорее всего, и стало причиной отправленного в Варшаву сигнала. Кто знает, на что делался расчет, когда формулировалось такое предложение, фактически осознанно приносившее в жертву и Советскую Литву, и Советскую Белоруссию. Возможно, на скорую революционную вспышку в Польше, что в таком случае позволило бы аннулировать договор, как это произошло с подписанным с Германией Брестским миром. Возможно, на мировую революцию, уверенность в неизбежности в которой еще не ослабевала. Однако стань та линия линия межгосударственной границей, вряд ли белорусская республика возобновилась бы – приходится допускать и такое. В этом смысле можно говорить, что жадность и амбициозность Начальника новой Речи Посполитой маршала Пилсудского, которому российский Смоленск и украинский Киев тоже виделись польскими городами, оказалась полезной белорусам. После кратковременного захвата Киева в мае 1920 года польским войскам пришлось спешно откатываться до самой Варшавы. Минск снова стал столицей после второго провозглашения Советской Белоруссии, состоявшегося 31 июля 1920 года, что никак ему не засветило бы, прими Польша январские условия. Возможно, потому-то день освобождения Минска – 11 июля 1920 года – от почти годичной польской оккупации отмечался не менее торжественно, чем впоследствии 3 июля – дата изгнания гитлеровцев в 1944 году. Знакомство с прессой БССР тех лет не позволяет сделать иной вывод.

Столько оставалось от ССРБ в результате «польско-советской войны», завершившейся Рижским договором 1921 года.
Значение 11 июля для белорусской истории постоянно подчеркивалось и тем, что именно в годовщину освобождения Минска от польской оккупации проводились весьма важные, знаменательные для государства мероприятия. С участием высших должностных лиц республики именно в такой день осуществлялась торжественная закладка Дома правительства, Большого театра оперы и балета, стадиона «Динамо». К этой дате газеты и журналы обязательно напоминали о жестокостях, творимых польскими войсками на белорусских территориях во время той войны. К примеру, о трехдневном артиллерийском обстреле уже оставленного ими Борисова в конце мая 1920 года, притом обстреле, который велся с применением не только зажигательных, но и химических снарядов, в результате чего город был по сути уничтожен, более полутысячи его жителей погибло, еще десять тысяч осталось без крова над головой. Та жестокость вызвала возмущение во всем мире, многие страны предлагали свою помощь в восстановлении Борисова. В уже упоминавшемся очерке “Минск”, опубликованном в 1938 году в союзном журнале “Наша Страна” в рамках обсуждения плана обнародованного переустройства белорусской столицы, Кузьма Черный, повествуя и о том, чем закончилась польско-советская война, писал, что “разрушенный и сожженный поляками Минск был больше похож на развалины, чем на живой город”. Не обходилось в газетах и без рассказов о еврейских погромах, которыми сопровождалось вступление польских легионов в белорусские города, например, в Лиду, в Оршу, а также в Пинск, где сразу же было расстреляно более сорока раввинов, застигнутых во время молебна.
Все это, тоже напомним, не осталось без ответа со стороны местного белорусского населения. Как вынужден был через много лет, уже в конце ХХ века, признать польский исследователь происходившего в те жаркие годы Богдан Скарадзиньски в своей книге «Белорусы, литовцы, украинцы», изданной в Белостоке в 1990 году, «отступавшие из Белоруссии под натиском наступления Тухачевского польские армии никто не провожал с сожалением». Наоборот, «случалось, что из оставляемых местечек и сел раздавались выстрелы вслед уходящим». Далее он отмечает, что польские источники приписывали те выстрелы евреям и «сбольшевизированным крестьянам». Однако Скарадзиньский оставляет в стороне, как минимум, два очень важных аспекта. Во-первых, в упомянутых им селах белорусы, а в местечках белорусы и евреи составляли главную часть населения, куда по приказу маршала Пилсудского заявились польские воинские контингенты. Во-вторых, дело тогда уж точно не ограничилось одиночными выстрелами вслед отступавшим легионерам. Они ощутили настолько массовое сопротивление, что, к примеру, на Минщине для боев с местными партизанами польское командование вынуждено было снять с фронта 17-ю пехотную дивизию. Тем не менее, пан Богдан в конце концов все-таки сделал весьма правильный вывод, пусть и красочно сформулированный: те выстрелы объективно означали для поляков поражение, притом «равное размером историческому удовлетворению и триумфу, каким было напоение польских коней в верховьях Днепра».

Железнодорожный вокзал в Минске, сожженый польскими войсками перед их отступоением в июле 1920 года. Судя по надписи на снимке, он сделан в день изгнанрия поляков из города.
Без учета фактов, факторов и нюансов, которые к такому выводу привели и польского аналитика, даже по прошествии лет невозможно правильно оценить не только саму «польско-советскую войну», но и последовавшие за ней настроения, довольно отдаленные от нее события, однако кровно в нею связанные. В советские времена опять же, чтобы не обидеть или не задеть самолюбия «социалистических союзников», проживающих на Висле, старались не напоминать и о том, например, что Рижский договор долгое время не признавала Лига Наций, поскольку – так звучало с ее трибун – он стал результатом польской агрессии против восточных соседей. Столь пространное отступление в историю просто необходимо для понимания и похода Красной Армии, начатого 17 сентября 1939 года. Фактически он был предопределен за двадцать лет до этого, притом предопределен Варшавой, когда наш западный сосед решил прибрать к своим рукам то, что ему, по метким слова тогдашнего британского премьер-министра Дэвида Ллойд Джорджа, принадлежать и не должно. Если об этом не знать и не помнить, то получится, что Белоруссия, Литва, Украина тем походом не вернули себе свои земли, а оккупировали польские, что это не поляки нам ударили в спину еще в 1919, а мы им в 1939. Кстати, подобного рода «пояснение» на Висле нынче пропагандируется довольно активно. И причину, обусловившую подобный подход к историческим фактам, понять вовсе не трудно. Народная мудрость давно пришла к выводу, вполне конкретно уточняющему, кто зачастую громче всех призывает поймать вора.
В свою очередь, без должной оценки той войны и последовавшего за ней огнеопасного двадцатилетия не в полной мере объяснимо и появление постановления «О столице БССР». Ведь после заключения Рижского мира в отношениях второй Речи Посполитой с граничащими с ней восточными государствами, хотя и не все они являлись социалистическими, как, например, та же Литва, доброжелательности за полтора десятка лет ничуть не прибавилось. Политические ветры, дувшие в те годы в их сторону с берегов Вислы с началом активного взаимодействия Польши с Германией становились все студеннее. На таком фоне и возникла идея перенести белорусскую столицу подальше от границы. А это свидетельствует еще и о том, что предпочтение тогда все-таки отдавалось мерам защитного, а не наступательного характера. Поход Красной Армии в сторону Бреста, Вильнюса, Львова тогда в Советском Союзе уж точно еще не замышлялся. Воевать одному против двух, если учесть польско-германское взаимодействие? Да еще и при начавшемся нарастании японской активности на Дальнем Востоке, о чем тоже писал маршал Шапошников маршалу Ворошилову в своей специальной записке? Такое по определению исключалось. Война на два фронта считалась наихудшим из вариантов развития ситуации. Стоявший во главе СССР И.В.Сталин пребывал в уверенности, что на такой риск ни в коем случае не пойдет никто, даже Гитлер. Июнь 1941 года показал, что та уверенность стала его главной ошибкой. Гитлер ударил на восток, не завершив военных дел на западе. Впрочем, его дивизии к тому времени стояли не только в польской Варшаве, но и во французском Париже, бельгийском Брюсселе, голландском Амстердаме, норвежском Осло. От западного фронта в конетинентальной Европе оставались ошмотья. Силы, еще способные сопротивляться германскому вермахту, находились за пределами материка – на британских островах.
Почему местом для новой столицы БССР был избран Могилев, а не, скажем, в полтора раза больший его Гомель? Или Витебск, в промышленном смысле тоже превосходивший Минск? Скорее всего, речь тогда шла о том, чтобы столица оказалась в городе, который в случае войны окажется не только подальше от границы, но и в стороне от возможных главных вражеских ударов. В соответствующих военных штабах направления тех ударов, разумеется, старались предугадать, так как становилось все более понятным, что политическое небо над страной и над всей Европой мрачнеет и мрачнеет. Значит, медлить было нельзя.
- глава из книги «Ехала столица в Могилев»


