 История об «огненном танке» долгое время считалась среди жителей Минска городским фольклором. Старожилы рассказывали, что якобы при отступлении советских войск из Минска в первые дни войны в засаде был оставлен одинокий танк, который совершил по улицам города впечатляющий рейд. Однако существовал ли этот танк на самом деле, кто были герои, рискнувшие в одиночку сразиться с гитлеровским гарнизоном – никто не мог сказать в точности…
История об «огненном танке» долгое время считалась среди жителей Минска городским фольклором. Старожилы рассказывали, что якобы при отступлении советских войск из Минска в первые дни войны в засаде был оставлен одинокий танк, который совершил по улицам города впечатляющий рейд. Однако существовал ли этот танк на самом деле, кто были герои, рискнувшие в одиночку сразиться с гитлеровским гарнизоном – никто не мог сказать в точности…
Но как выяснилось, легенда о танке-мстителе имела под собой вполне реальную основу. Началась она так.



 В конце XIX – начале ХХ в. в Российской империи стали появляться различные национализмы. Особые проблемы были у украинского и белорусского национализмов, поскольку то население, за контроль над которым эти национализмы боролись, официально являлось частями русского народа. Таким образом, национализмы вынуждены были не только доказывать, что мы некто, но ещё и то, что мы не те, за кого нас принимают.
В конце XIX – начале ХХ в. в Российской империи стали появляться различные национализмы. Особые проблемы были у украинского и белорусского национализмов, поскольку то население, за контроль над которым эти национализмы боролись, официально являлось частями русского народа. Таким образом, национализмы вынуждены были не только доказывать, что мы некто, но ещё и то, что мы не те, за кого нас принимают. В советской историографии одной из причин политического кризиса 1905–1907 гг. указывался «дикий произвол царизма, всевластие полиции и жандармерии», которые «ничем не ограниченным произволом» придавали «особую остроту и глубину классовым противоречиям». Политический режим и форма правления в Российской империи трактовались как «феодально-крепостнический пережиток» [1, с. 248]. Несмотря на очевидную ангажированность такой интерпретации политической природы российской государственной власти, эта точка зрения до сих пор доминирует в белорусской историографии.
В советской историографии одной из причин политического кризиса 1905–1907 гг. указывался «дикий произвол царизма, всевластие полиции и жандармерии», которые «ничем не ограниченным произволом» придавали «особую остроту и глубину классовым противоречиям». Политический режим и форма правления в Российской империи трактовались как «феодально-крепостнический пережиток» [1, с. 248]. Несмотря на очевидную ангажированность такой интерпретации политической природы российской государственной власти, эта точка зрения до сих пор доминирует в белорусской историографии.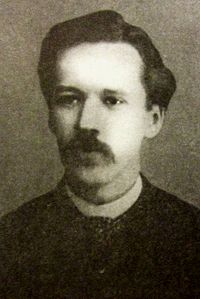
 Вторая Отечественная война… Именно так в 1914 году назвали начавшуюся войну. Существовало и другое название - Великая Европейская война. Потом, в 1918 году ее станут называть мировой войной, а уже после 1941 года - Первой мировой войной.
Вторая Отечественная война… Именно так в 1914 году назвали начавшуюся войну. Существовало и другое название - Великая Европейская война. Потом, в 1918 году ее станут называть мировой войной, а уже после 1941 года - Первой мировой войной.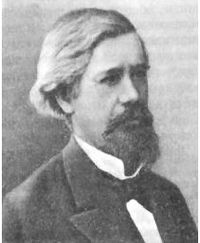 Историческую судьбу Белоруссии в значительной мере определило наличие здесь различных христианских и нехристианских вероисповеданий. Отношения между ними в различные периоды истории складывались по-разному. Однако, в целом, конфессиональная ситуация в регионе на протяжении длительного времени являлась очень сложной. Оказавшись, в силу своего геополитического положения, на стыке восточного и западнославянского, православного и католического миров, Беларусь стала местом встречи, столкновения и взаимодействия этих цивилизаций. Одним из проявлений этого цивилизационного взаимодействия стала борьба между католицизмом и православием.
Историческую судьбу Белоруссии в значительной мере определило наличие здесь различных христианских и нехристианских вероисповеданий. Отношения между ними в различные периоды истории складывались по-разному. Однако, в целом, конфессиональная ситуация в регионе на протяжении длительного времени являлась очень сложной. Оказавшись, в силу своего геополитического положения, на стыке восточного и западнославянского, православного и католического миров, Беларусь стала местом встречи, столкновения и взаимодействия этих цивилизаций. Одним из проявлений этого цивилизационного взаимодействия стала борьба между католицизмом и православием. Ситуация второй половины XIX в. на территории Белоруссии представляла собой достаточно запутанный клубок религиозных и этнических отношений. Взаимодействие этносов, культур, национальных идеологий происходило практически в каждом моменте правительственной деятельности и акте взаимоотношений населения с администрацией. Политизация самого духа Северо-Западного края давала возможность представлять любое действие определённых группировок населения как антиправительственный демарш. В этом случае правительство оказывалось в патовой ситуации – демонстративное поведение представителей шляхты, подчёркивание ими своей польской ориентации, пренебрежительно-показное отношение ко всему русскому должно было каким-то образом пресекаться администрацией.
Ситуация второй половины XIX в. на территории Белоруссии представляла собой достаточно запутанный клубок религиозных и этнических отношений. Взаимодействие этносов, культур, национальных идеологий происходило практически в каждом моменте правительственной деятельности и акте взаимоотношений населения с администрацией. Политизация самого духа Северо-Западного края давала возможность представлять любое действие определённых группировок населения как антиправительственный демарш. В этом случае правительство оказывалось в патовой ситуации – демонстративное поведение представителей шляхты, подчёркивание ими своей польской ориентации, пренебрежительно-показное отношение ко всему русскому должно было каким-то образом пресекаться администрацией.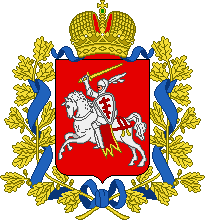


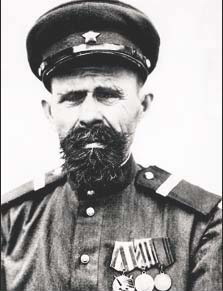

 Оборона крепости Шуша – один из забытых ныне эпизодов Русско-персидской войны 1826-28 г.г. Между тем героической обороной Шуши руководил уроженец Белоруссии – полковник Иосиф Антонович Реут.
Оборона крепости Шуша – один из забытых ныне эпизодов Русско-персидской войны 1826-28 г.г. Между тем героической обороной Шуши руководил уроженец Белоруссии – полковник Иосиф Антонович Реут. Преднамеренное производство интеллигенцией мифов и символов является частью объективного процесса национальной консолидации. Национальные идеи могут найти отклик у образованной публики, если за ними стоит авторитет науки. Поэтому история, филология, антропология придают «научность» мифам об этническом прошлом, как бы систематизируют поэтические метафоры. Чаще всего происходит так, что некоторые сознательно творимые погрешности против исторической истины обнаруживаются уже поздно. Спустя некоторое время, когда исторические мифы, выдуманные истории или фальшивые святыни бывают раскрыты, они уже выполнили свою роль - добились пробуждения тех национальных чувств, которых требовала интеллигенция.
Преднамеренное производство интеллигенцией мифов и символов является частью объективного процесса национальной консолидации. Национальные идеи могут найти отклик у образованной публики, если за ними стоит авторитет науки. Поэтому история, филология, антропология придают «научность» мифам об этническом прошлом, как бы систематизируют поэтические метафоры. Чаще всего происходит так, что некоторые сознательно творимые погрешности против исторической истины обнаруживаются уже поздно. Спустя некоторое время, когда исторические мифы, выдуманные истории или фальшивые святыни бывают раскрыты, они уже выполнили свою роль - добились пробуждения тех национальных чувств, которых требовала интеллигенция.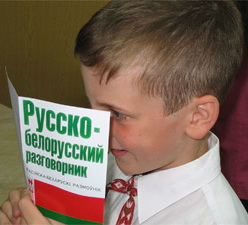 В современной белорусской историографии принято жестко критиковать и осуждать высказывания
В современной белорусской историографии принято жестко критиковать и осуждать высказывания 